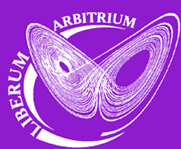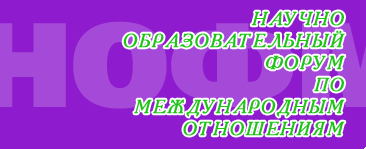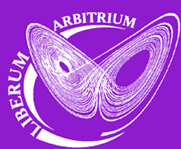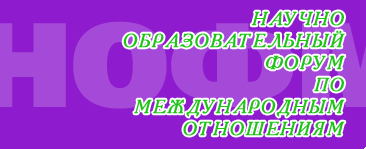|
ПЯТЬ СИНДРОМОВ ЕЛЬЦИНА И ПЯТЬ ОБРАЗОВ ПУТИНА. РЕТРО-ПЕРСПЕКТИВА ЛИЧНОСТНОЙ ДИПЛОМАТИИ В РОССИИ
Алексей Богатуров,
докт.политическ.наук, профессор
(Опубл. в Pro et Contra, 2001, том 6, № 2, весна)
Психология лидера, всегда значимая в сфере международного общения, играла во внешней политике России в последние годы особенно заметную роль. Тому были причины: алчно-неумелый слом старых и трудное становление новых механизмов реализации решений, трудная ситуация с обеспечением дипкадрами, свертывание роли среднего профессионального звена кремлевско-мидовской машины, контраст между реальной международной обстановкой и официально провозглашаемыми задачами дипломатами. Формирование внешней политики утратило черты организованного процесса на основе триады "аналитика-политика-дипломатический аппарат" и стало сильнее подвержено импульсивным воздействиям лидеров, делавшихся средоточием политической воли и властных полномочий высшего порядка.
Разговор о личностном начале в российской внешней политике несводим к оценке роли президентов. Министры иностранных дел (Е.Примаков, а меньше - И.Иванов и А.Козырев) - носители персональных черт довольно броских, чтобы влияние каждого из них и всех троих вместе могло стать объектом рассмотрения. Завлекательный предмет анализа - и "полутеневые" в фигуры: "злой гений" кремлевской "семьи" Б.Березовский; А. Чубайс, обладавший в зените секторальным, но колоссальным воздействием на формирование позиции в отношении международных финансовых институтов, В.Юмашев, А.Волошин и другие лица кремлевской закулисы. Лишь рамки ограниченного рассуждения принуждают отложить эти темы "на потом", сосредоточившись на двух фигурах - "полуизбранном" первом президенте России и его "полуназначенном" преемнике.
1. "Дипломатия неврозов" или пять синдромов Ельцина
Среди образов, воплощавших личностную дипломатию российских лидеров, важно выделять те, что целенаправленно постулировались их носителями и те, которые существовали объективно, даже если они "не признавались" их носителями как противоречащие официально потребному имиджу вождей.
Противоречие между первыми и вторыми бывало значительным. Это бросалось в глаза в пору Ельцина, склонного к неумеренному "полит-артистизму", перетекавшему в эпатаж (заплетающийся язык Ельцина во время его "допрезидентского" посещения Соединенных Штатов), гротескный юмор (комментарий по адресу американских СМИ на пресс-конференции после переговоров с Б.Клинтоном, вызвавший припадок неодолимого смеха у последнего), карнавальные эффекты во время официальных торжеств ("сцена с оркестром" в ходе визита в ФРГ).
Эти примеры - не случайный набор маскарадных сцен. Они - иллюстрации болезненного стремления экс-президента представить себя зарубежью в качестве (в буквальном смысле) "анти-советской" личности - фигуры, сконструированной "от противного", по признаку контрастности с тем , что понималось под советским руководителем от Сталина до Черненко - основательным, тяжеловесным, чопорно сдержанным, не склонным смеяться и давать повод для улыбок.
Ельцин хотел сформировать облик "нового свободного". Это отчасти ему удалось, хотя по иронии "новый свободный" оказался многими чертами - нехваткой вкуса, например - параллелен "новому русскому". Грубоватая маска, которой стал пользоватся президент, воплотила не столько живые черты нового российского характера, сколько зеркально отраженные и нарочито укрупненные "анти-черты" характера старого, советского. Отсюда - нездоровое тяготение Ельцина к отступлениям от этикета, насмешке над традициями поведения за границей какими они были сформированы советским воспитанием.
Рационализация происходящего была президенту доступна. Но насколько можно судить, он строил ее на презумпции целесообразности действовать "от противного". Вот почему освоенная Ельциным манера "вызывать смех на себя" видится не чем иным, как "перевернутым" отображением советского (и архаично боярского) стереотипа "ни за что не казаться смешным" и "не уронить себя перед иноземцами". Сходным образом, возмутительный отказ от встречи с ирландскими лидерами во время промежуточной посадки самолета Ельцина в Ирландии на пути из США, хотя и был отчасти вызван нетрезвым состоянием президента, одновременно выступал как знак намеренного - "новосвободного" ("антисоветского") - пренебрежения к приличиям, почтением к которым отличался, например, вызывавший гневливую зависть Ельцина Горбачев.
Сконструированный для "внешнего потребления" имидж Ельцина в самом деле воплощал неизвестный русской традиции тип характера, который должен был соединять символику демократизма, свободы и открытости (как их понимал президент) со знаковостью культуры, образованности и компетентности. В этом смысле, при всей карикатурности, "новый свободный" Ельцина и был новым. Но "свободным" он мог считаться лишь "новорусском" значении этого слова, для которого характерно отождествлении свободы с развязностью. "Новая свобода" Ельцина ближе к распущенности В.Жириновского, чем свободе в понимании западного общественного мнения, и сознании по-современному образованного слоя российской публики.
Образ "нового свободного" разительно неорганичен. Он по-детски претенциозен и одновременно по-взрослому тосклив. "Устойчивая цепь случайностей" или неодолимость подсознательной моторики в том, что своем "новосвободном" обличии Ельцин как правило являл себя в состоянии "под мухой" - обстоятельство, усиливавшее черты болезненности в его и без того помеченном нездоровьем облике ? Болезненность - приметная черта атмосферы ельцинского двора, проступавшая сквозь ретушь политтехнологов. Черты официозного образа, сливаясь, образовывали, говоря языком психиатрии, своеобразный симптомокомплекс, который и можно назвать "синдромом нового свободного".
Несмотря на официозность, практическую роль этого синдрома, предназначенного к тому же для "гастрольных исполнений", не следует преувеличивать. Воплощенный в нем образ служил скорее затуманиванию политико-психологических мотивов внешнеполитической активности России и дезориентации аналитиков и прессы. Фактическое влияние на ситуацую оказывали иные образы поведения и действия президента. Все они, как и официозный образ "нового свободного" были замешаны на чувстве неполноценности, "вытесненных" обидах и подавленных эмоциях - в этом состояла специфика влияния, которое исходило на внешнюю политику со стороны личности президента.
а) Синдром неравного. В отличие от официозного, этот синдром был на самом деле главным с точки зрения реального влияния на поведение российского президента в отношениях с внешним миром. Ельцин понимал, что он вывел Россию из Союза ССР ценой ее двукратного ослабления, если иметь в виду сокращение всех наличных ресурсов за исключением военных. При этом США не только сохранили, но и преумножили свой потенциал, оставшись единственным комплексным мировым лидером, обладающим превосходством по отношению к любой другой державе.
Абсолютность американского превосходства была для Ельцина мощным психотравмирующим элементом. На ее фоне президент испытывал потребность в наркотически регулярном подтверждении уважения к нему как руководителю "великой" страны, России как важнейшего (еще пока не главного, но в перспективе - и главного) американского партнера и союзника. Оба эти слова намертво вошли в лексикон российско-американского диалога, породив ворох непониманий, смысловых разночтений, курьезов. Русские и американцы трактовали оба термина по-разному. Ельцину "союзничество" с Вашингтоном казалось выше "партнерства", и он твердил о союзе как более высокой точке отношений России и США, к которой будто бы они двигались. Для Клинтона "союз" казался вещью частной и конкретно-исторической, а партнерство - феноменом менее определенным и обязывающим в правовом смысле, зато более устойчивым и фундаментальным в значении моральном и историко-традиционном. В американском понимании парнтерство основано на общности ценностей, а не только конкретных ситуативных целей, как союз.
Правда, Ельцин был рад и "союзу". Ему требовалось хотя бы формально подчеркнуть свое равенство с Клинтоном, принадлежность к кругу превилегированных союзников США, клубу избранных, само членство в котором обладало ценностью в глазах президента России, терявшей международные позиции. Ради такого выигрыша дипломатия Ельцина проявляля чудеса уступчивости, так сильно поражавшие при первой администрации демократов госсекретаря Уоррена Кристофера. Позднее новый руководитель госдепа Мадлен Олбрайт хорошо овладела тактикой игры на "синдроме неравного", умея терпением, тактом и подчеркнутым, церемониальным вниманием к мнению Москвы облегчать получение от России уступок даже после того, как "мягкий" Козырев был заменено на "твердого" Примакова, а потом - "полужесткого" Иванова.
О том, насколько сильно Ельцина тяготила мысль о неравенстве косвенно свидетельствует его навязчивое тяготение к "раздеваниям". Истинная семантика обожаемых им развязываний галстуков и снятия пиджаков очевидна: президент приглашал (фактически понуждал) собеседника, статус которого он подсознательно считал более высоким, чем его собственный, отказаться от внешних аттрибутов статусности и, таким образом, стать "на одну ступеньку" с самим Ельциным. Такие маневры в психологическом значении тождественны приглашению в баню на бытовом уровне: в бане собеседники тоже разоблачаются как в прямом, так и социально-знаковом смысле, соглашаясь на время уравняться в условно раздетом состоянии. Заметим, что прежде российская дипломатия не злоупотребляла такими формами психологического воздействия. Московские цари, стремясь оказать впечатление на иностранцев, напротив, удивляли их тяжелыми раскошными нарядами и сложными придворными церемониями, которые должны были сигналить о грандиозности монаршей власти. "Впечатанная" в подсознание историческая память об этом заставляла Ельцина предполагать в собеседнике намерение подавить его, Ельцина, которое он сам испытывал в себе по отношению ко всем, с кем разговаривал. Вот почему президенту казалось важным побудить лидера предположительно более сильной державы (Япония, ФРГ, США) отказаться от казавшегося ему самому опасным "невидимого психологического оружия" в форме статусных регалий. Кстати, ничего не известно о "встречах без галстуков" между Ельциным и лидерами стран, более слабых , чем Россия - Эстонии, Сербии, Южной Кореи. На них логика "взаимных разоблачений" не распространялась. Случайно ?
б) Синдром обманутого. Этот комплекс не имел такого универсального значения, как "синдром неравного". Он преимущественно проявлялся в политике Москвы в отношении Украины и стран Прибалтики, проступая в отношениях с той и другими с некоторыми различиями. С Украиной, лидер которой Леонид Кравчук скоро показал самонадянному свердловчанину, свое превосходство в таланте одерживать блестящие победы малыми ресурсами ("беловежский обман" - безоговорочный успех Кравчука и украинской дипломатии), все годы своего правления Ельцин говорил с позиции терпеливого "отца" (старшего брата), который (будто бы ) чувствует (даже если блефует), что он сильнее, но не хочет показывать свою силу строптивому и по молодости горячному "сыну" (брату младшему).
Российский владыка, понимал, что киевлянин обхитрил его в Белой Веже, поддержав против Горбачева, но одновременно похоронив амбициозные надежды Ельцина стать вместо Горбачева руководителем пост-советского пространства де-факто. Признать такой провал гордецу Ельцину было невмоготу. Его любимый образ - непобедимый вождь, который и уйти-то должен непобежденным (досрочное отречение и "завещание" президентства самочинно выбранному и самовластно назначенному наследнику Путину - уникальнейший случай идеально полного воплощения президентского замысла).
Нежелание признать себя обманутым обусловило упрямое желание Ельцина делать хорошую мину при проигрышной игре, монотонно, назидательно и не убедительно причитая о "стратегическом партнерстве" (?) России с Украиной на фоне не скрывавшегося стремления последней уклониться от объятий Москвы. Ельцин продолжал вести эту партию, несмотря на откровенное тяготение Киева к сближению с НАТО и намеренное выдвижение Украины в круг формировавшейся неформальной антироссийской фронды как внутри СНГ (ГУААМ), так и вне его (балто-черноморская "геополитическая химера").
Страшась показаться смешным (обманутый смешон по определению) Ельцин продолжал действовать, как незрячий. Необъяснимое с точки зрения здравого смысла подписание, а затем и ратификация не необходимого, нелепого и невыгодного Москве российско-украинского договора - венец украинской политики Ельцина - можно хоть как-то объяснить только в контексте "синдрома обманутого": не сознающийся в своем промахе президент России из принципа "гнет линию" на умиротворение Киева, выдавая за свой "последовательный демократизм" неспособность вернуть Украину к добеловежским отношениям с Москвой.
Сходным образом работал политико-психологический механизм российско-прибалтийских отношений. Испытывая чувство долга перед странами Прибалтики, признавшими суверенитет России в момент противостояния Ельцина с Горбачевым, Ельцин вместе с тем осознавал "задним числом" масштаб политико-дипломатических промахов, в спешке допущенных по его вине российской дипломатией, которая со признала независимость стран Прибалтики, несмотря на наличие между сторонами острых нерешенных территориальных, гуманитарных и социально-экономических вопросов. Как в случае с Украиной, российский президент не хотел признать ошибки и не пытался отыграть упущенное. Его позиция в отношении стран Прибалтики определялась сочетанием скрываемой обиды на "неблагодарность коварных прибалтов" и позой показного величия "сильной и великой" России перед неправедными злыми уловками слабых и заплутавших в своих комплексах соседей.
"Синдром обманутого", который не хочет признать себя таковым, сыграл разоружающую роль в российской политике, парализуя ее активность на ее не первостепенных, но "чувствительных" направлениях, в сферах, где Россия могла реально добиться уступок, поскольку обладала мощным инструментарием средств воздействия на соседей.
в) Синдром ревнивого. Этот комплекс тоже влиял на российскую внешнюю политику отрицательно,
проявляясь прежде всего в отношениях с Грузией и Азербайджаном, где после кратких периодов правления антикоммунистических радикалов (З.Гамсахурдиа и Эльчибея, соответственно) вновь утвердились представители "старой гвардии" Политбюро ЦК КПСС - Э.Шеварнадзе и Г.Алиев. Отношения Ельцина с двумя последними были окрашены той же ревнивой неприязнью, которой глубоко пропитано личное отношение экс-президента России к президенту СССР М.Горбачеву. Так и не сумев в советские годы по-настоящему влиться в ряды высшего столичного истэблишмента, Ельцин, переведенный Горбачевым в Москву из "уральской глубинки", всегда болезненно переживал высокомерно-снисходительное отношение, которое обнаруживали к нему как "новобранцу" ветераны московской политической сцены, люди, прошедшие частилища придворных университетов эпохи Брежнева, Андропова и Черненко.
Для Ельцина никто из старых членов Политбюро "своим"
не был. Как сам он не был своим ни для кого из них. Самый факт непотопляемости ветеранов Политбюро, к высшему кругу которых исторически принадлежали Алиев и Шеварнадзе, унижал Ельцина который силился представить себя выходцем из народа, самовыдвиженцем, бунтарем, человеком, который сделал себя сам. Ельцин не смог простить Горбачеву благородства, с которым тот не позволил Е.Лигачеву в момент "бунта Ельцина" уничтожить его, исключив из состава высшей партийной номенклатуры и изгнав из Москвы. Ельцин не признал искренности мотивов Горбачева и счел себя униженным снисходительной терпимостью последнего.
Последующие действия российского президента соответствовали архетипу "устранения свидетелей" своего тогдашнего "унижения". В этом смысле безупречно логичным предстает свершившийся в конце концов разрыв Ельцина даже с Яковлевым - наиболее радикальным и, казалось бы, идейно близким Ельцину либералом в тогдашнем Политбюро. Для Ельцина представители старого истэблишмента были неприемлемы не идейно - к принципам свободы и демократии и Ельцин, и Горбачев, и Шеварнадзе с Алиевым относились с сопоставимой долей иронии и прагматизма - а психологически и личностно. Ельцин не любил и не умел терпеть вокруг себя людей, которые в прошлом имели шанс и основания разговаривать с ним из позиции "верха".
Упрощать мотивы закавказской политики России не приходится. Но стоит констатировать: при Ельцине сносно отношения у России складывались только с Арменией, где власть старой советской элиты была полностью свергнута и произошел троекратный кадровый сдвиг. С Грузией и Азербайджаном, где структура правщих элит менялась медленно и преемственность власти была во многом сохранена, диалог Москве не давался, хотя Тбилиси и Баку были заинтересованны в поддержке России, у руках которой оставались мощнейшие рычаги воздействия на грузинские и азербайджанские внутренние дела.
Можно лишь удивляться насколько мало базовые интересы России в этой части мира влияли на российскую политику, сохранявшую односторонний "проармянский" крен, мешающий Москве выработать сбалансированную политику в закавказском регионе и осложняющий формирование необходимых внешних условий для урегулирования ситуации в связи с мятежом в Чечне.
г) Синдром отверженного. Личностные проблемы Ельцина заметно сказывались на отношениях с государствами Восточной Европы. Сосредоточенность президента на выравнивании своего статуса в отношениях с Клинтоном или Г.Колем не оставляла надежд на появление у российского лидера интереса к новым руководителям бывших стран-сателлитов СССР. Гавел, Мечияр, Валенса, Илиеску, Жулев, Милошевич - не говоря о Туджмане - вожди этого ряда не виделись Ельцину достойными партнерства на базе пересмотра и обновления прежних разветвленных отношений Москвы с восточноевропейскими государствами. Россия непрерывно вещала устами президента о намерение "включиться в Европу", но она загадочным образом собиралась сделать это, "через головы" своих соседей, "помимо" их.
Конечно, неумение Москвы разработать новую стратегию в отношении стран региона было связано с переориентацией самих восточноевропейских стран на Запад и их слабой заинтересованности в углублении сотрудничества с Россией. Более того, активно демонстрируя настрой на вступление в НАТО, восточноевропейские государства невольно подчеркивали пренебрежение отношениями с Москвой. В России это замечали, а заметив, "обижались", как обижаются на измену любимой, друга или дотоле верного соратника. Вопрос о "наказании" бывших друзей действием, правда, даже не обсуждался. Но наказание все же применялось,"
наказание презрением" - той поразительная пассивностью и безразличием "дипломатии Ельцина" к бывшим союзникам, которую единодушно отмечали отечественные и зарубежные международники. Ельцин напрасно ждал от бывших "солагерников" ("блудных детей") раскаяния и возвращения. Время было упущено - как оно было упущено в отношениях с Грузией, Казахстаном и другими экс-друзьями Советского Союза.
"Потерянное десятилетие" - было оно неизбежным ? Нет желание возлагать вину за него только на Ельцина. Обстоятельства не благоприятствовали сближению России с Восточной Европой. Но российская дипломатия могла быть активной хотя бы в упреждении слишком резкой деградации отношений с восточноевропейскими странами. В том, что не было сделано и это - немалая вина того, кто самодержавно формулировал очередность внешнеполитических задач страны.
Парадоксальный, казалось бы, факт: ослабление России и уменьшение разрыва между ней и средними странами должно было способствовать появлению элементов сходства в видении ими международных реалий; на деле же происходило обратное - чем уязвимее становилась Россия, тем резче и раздраженней она отодвигалась от "нестатусных стран", словно отрицая саму мысль о возможности быть даже символически уравненной с ними.
Бывшие российские сателлиты, натужно-потешно демонстрировали кстати и некстати свою независимость от Москвы. В параллель им и Россия неловко пыталась игнорировать своих соседей, делая вид, что можно вести дела с "Большой Европой", попросту, не замечая "Европы Малой". Так поглупевшие от стадного коллективизма русские, впервые попав за границу, сторонятся своих, стараясь скорее слиться с толпой иностранцев, которые подсознательно кажутся им в статусном
отношении выше и лучше, чем они сами. Борис Ельцина как зеркало пост-советского сознания россиян ! Могла ли быть эффективной дипломатии, столь сильно замешанная на уязвленности духа, невротических комплексах и жажде психологической сверхкомпенсации ? Не странно, что она такой и не была.
II. "Дипломатия жесткой перчатки" или пять образов Путина
Полтора года нового правления - срок малый. Эта часть рассуждения поэтому носит печать предварения. И все же: еще в момент первого появления Путина в роли и.о. премьера и официального кандидата Кремля на президентских выборах было видно, насколько чужд ему нажимно-экспрессивный стиль дряхлеющего владыки и как он инстинктивно его сторонился. Может быть тогда-то Путин и стал лепить собственный облик тоже по принципц со- противопоставления себя с Ельциным.
Подобно бывшему президенту Путин стремится предстать сильным. В отличие от него онт хотел выглядеть скупым на цирковые эффекты и ложные страсти. Прежний вождь буйствовал в непредсказуемости, нынешний - интригует наполненностью тихим значением, которое он не спешит раскрывать. Непостижимость Ельцина страшила грядущей неотвратимостью, непонятность Путина (пока) манит загадкой. Личность, которая не рвется выставлять себят на показ. Фигура, которая, как кажется, говорит и делает меньше, чем может сказать и сделать на самом деле. Эта стилистикат гораздо больше соответствует российским традиционным народным ожиданиям в отношении носителя верховной власти, всегда в большей или меньшей степени условно сакрализованным по своей природе и потому плохо совместимым с низовой конкретикой, которойт злоупотреблял Ельцин. В этом смысле официозный образ Путина, так сказать, гораздо более русский, чем западнический образный официоз Ельцина.
Путинский официоз - образ "сильного и сдержанного". Его избрал президент и ему он стремится соответствовать в наиболее важных международно-политических ситуациях в расчете на зарубежную аудиторию и российское общественное мнение.
Такому облику вождя прекрасно соответствует поведение российской стороны в вопросах контроля над вооружениями. Путин уверенно возражает Соединенным Штатам, заявляя собственное видение ситуации вокруг попыток США подвергнуть ревизии Договор ПРО, перспектив действий Москвы на рынках вооружений, будущего российско-иранского ядерного сотрудничества и торговли России с Индией. Но президент не дерзит и не провоцирует американцев, сигналя о готовности выслушать и прямо противоположное мнение. Нарочито пылкой ельцинской нетерпимости нет и следа.
В рамках образа "сильного и сдержанного" формируется поведение президента в вопросах текущего развития российско-американских отношений. Часть экспертов склонна оценивать их состояние как кризисное. Такие оценки сильно попорчены эмоциями СМИ. Факты им противоречат. Потому что ни расцвеченные журналистами разногласия Вашингтона и Москвы по стратегическим вопросам (декабрь 2000), ни вялое брюзжание по поводу "провокационного" дела Бородина (январь 2001), ни заливисто прокомментированные шпионские скандалы (март 2001), не переросли в сколько-нибудь крупную ссору, как не перерасло в нее даже прекращение деятельности комиссии "Гор-Черномырдин" - в самом деле крупный удар по политической механике россиийско-американских отношений.
Обратим внимание: президент замечательно освоил новую тактику произнесения "твердых " речей. Он ясно и недвусмысленно возражает Вашингтну, но возражает "по касательной", не " лоб": последовательно, но не категорично, отказываясь соглашаться, но не отвергая путей к компромиссу, и - что тоже показательно - никогда не повышая тона, даже в случаях говорения в насыщенно эмоциональном тоне. Это действительно можно принять за спокойную уверенность сильного человека, не склонного злоупотреблять проявлениями силы.
Такого стиля российская дипломатия не знала с середины 80-х. Но Горбачеву вести себя подобным образом было легче: за ним стояла мощь СССР. Механически вторя ему Путин, рисковал бы впасть в карикатурность. Избежать гротеска в нынешних условиях - искусство, требующее интуиции: не "перегнуть палку", не делаться смешным, но остаться в образе "сильного политика". Задача не для слабых. Технологи тут личности не заменят.
Тем более, что и технологам трудно: окружение Путина расколото. На президента пытаются воздействовать группы "либералов ельцинского набора" (администрация), "государственники-радикалы" (они же "новые силовики"), придерживающиеся менее либеральных, но более жестких государственнических взглядов с левоцентристским уклоном и, наконец, государственники-либералы, самый лобопытный и, похоже, наиболее перспективный вариант политической философии с точки зрения практического воздействия на внешнюю политику в обозримой перспективе. Просоответствовать вкусам всех советчиков сложно, а сам Путин словами предпочтения обозначает неохотно. Он ведь еще и молчун, особенно если сравнивать с самозабвенным ораторством Брежнева, Ельцина и Горбачева.
Образ "сильного и сдержанного" хорошо монтируется с психической конституцией президента, удачно налагается на его личность. Но и он не исчерпывает палитры образов, которые формируются практическими внешнеполитическими шагами президента. Подобно тому как особенности внешнеполитического поведения Ельцина складывались в четыре "синдрома", объективная специфика поведенческого стиля Путина может быть осмыслена в четырех образах.
а) Образ первый. Тихий упрямец. Смысл этой поведенческой фигуры описывается формулой, знакомой традиции американской дипломатии: "не спорить, но и не соглашаться" (или "согласиться с несогласием", agree to disagree). Так, Россия внимательно следит за периодическими волнами критики ее политики в Чечне. Но московские лидеры, в том числе устами президента, четко маркируют грань между тем, что в они признают нарушением прав человека, и тем, что российская власть считает "пределом необходимой обороны в рамках блорьбы с терроризмом". Это не что иное как тактика "тихого сопротивления", и она пока что работает.
С образом "тихого упрямства" сопрягается и поведение России в связи с событиями в Косово. Москва ни разу не одобрила действия НАТО в Югославии, но и не развертывала полемики по этому поводу после того, как бомбардировки Сербии натовской авиацией закончилась. Одновременно Москва активно выступала против изоляции Сербии в международных отношениях, и с готовностью взяла на себя исполнение неформального посредничесвта между президентом Милошевичем и сербской оппозицией в ходе гражданского конфликта в Югославии в 2000 г., хотя просербские интенции Москвы вызывали в западных столицах эмоции между едкой иронией и явным осуждением.
Репрезентативен образ "тихого упрямца" и для понимания российской политики в отношении сотрудничества Москвы с Ираном в мирном использовании ядерной энергии. Нервная реакция на него со стороны США - не секрет для России, но она упрямо отстаивает свое видение допустимых пределов такого сотрудничества и соотношения выгод и потерь, связанных с его развитием. Причем , не всегда понятно, насколько в этом смысле российское руководство движимо материально-финансовым и соображениями, а насколько развитие диалога с Тегераном видится России символом ее остаточной самостоятельности, мера которой непрерывно сокращается.
Добавим к цепочке аналогичных примеров стремление Москвы вопреки скептицизму США восстановить свое влияние в Сверной Корее, где президент Путин побывал в 2000 г. с официальным визитом, следуя логике "наверстать потерянное" и потеснить Китай с позиции главного (если не монопольного) международного партнера КНДР. Этот бросок российская дипломатия предприняла как раз в тот момент, когда сочла вероятным улучшение северокорейско-американских отношений, в случае нормализации которых США могли окончательно оттеснить Россию от участия в регулировании ситуации на Корейском полуострове.
б) Образ второй. Новый человек. Этот архетип, хорошо заметный в действиях Путнина, внушает умеренный оптимизм. Не чувствуя себя повязанным комлексами обид, российский президент стремится вести себя прагматично, проявляя самостоятельность по отношению к стереотипам, которые блокировали способность Ельцина подниматься над личными амбициями и неприятными воспоминаниями.
В пользу диагноза о "выздоровлении" российской дипломатии свидетельствуют два весомых факта: во-первых, государственный визит Путина в Азербайджан и его переговоры с Г.Алиевым о перспективах сотрудничества против чеченских террористов, а во-вторых, приглашение в Москву президента Литвы В.Адамкуса, диалог с которым, хоть и не принес особых радостей, все же был важен как попытка Путина найти собственные ответы на доставшиеся ему по наследству трудные проблемы отношений с одной из важных в стратегическом отношении соседних стран.
Показательным и то, как осторожно ведет себя Путин в отношениях с Украиной. Российская дипломатия не позволяет себе сколько-нибудь резко высказываться по поводу происходящего там. Но Путин перестал, в отличие от Ельцина, брататься с украинскими делегатами. Похоже, ему не понятна и не симпатична прежняя политика "перешагивания" через нерешенные (нелегальные заборки газа) или просто трудные (русский язык на Украине) проблемы двусторонних отншений. Он определенно не верит в действенность "заклинательной" риторики по поводу "братских" отношений между славянскими народами, сама природа которых будто бы способна вернуть Россию и Украину к состоянию единения и солидарности. Как политик Путин, несомненно, суше Ельцина. Как дипломат он менее склонен к лукавству.
При этом действия российской стороны на украинском направлении удивляют возросшей гибкостью: молчание по поводу ссоры президента Кучмы со своей оппозицей, может указывать на желание Путина просчитать вероятность смены власти в Киеве. Но в момент очередного обострения киевских событий в апреле 2001 г. Москва откомандировала в помощь украинскому президенту руководителя администрации президента РФ А.Волошина как одного из лучших специалистов по распутыванию внутриполитических интриг. Стилитсика и тактика российской дипломатии становятся более изошренными, возвращая ей потерянный при Козыреве профессионализм.
Очевидно и другое: профессионализм дипломатии стал при Путине котироваться выше идеологизированных словес - праволиберальных , левоуравнительных и "национал-корнеплодных". Предстоит увидеть, сможет ли Путин дать собственную здоровую версию государственнической внешнеполитической философии. Пока что заметно, что следовать предшественникам он склонен так же мало как поддаваться слишком рискованным новациям.
в) Образ третий. Домостроитель. При значимости первых двух образов Путина, типологические черты устроителя земли, пекущегося о созидании, болях и заботах народа в его облике в целом доминирует по сравнению с тем, насколько сходные характеристики были типичны для имиджа Ельцина.
Тот, неутомимо завидуя Горбачеву, непрерывно, того не признавая, себя с ним сравнивал, злился и ...невольно "натягивал" на себя так удававшийся Горбачеву образ "мирового лидера в глобальном масштабе".
Путин, (не без брезгливости ?) оставив попытки уподобиться предшественнику, стал сигналить междунардному сообществу о себе в совершенно ином ключе - более приземленном, но зато и более современном, реалистичном, адекватном народному запросу. Путин выступает в облике вождя, помыслы которого - внутри страны. Внешняя политика для Горбачева была средством упрочить внутриполитические позиции. Ельцину она служила инструментом спасения от бюджетного краха и поддержания растрачиваемого престижа. Для Путина внешняя политика вообще относительно второстепенна и значима прежде всего в зависимости от того, насколько она может помешать или посодействовать решению тех внутриполитических задач, которые президент считает главными.
С учетом такой акцентировки легче понять сдержанную позицию Москвы в отношении роли ОБСЕ в международной политике, снижение интереса России к этой организации в ее нынешнем виде, приспособленном для обсуждений стандартов соблюдения прав человека, но негодном для того, чтобы, к примеру, хотя бы смягчать в Европе ужесточившееся доминирование структур НАТО.
В самом деле, откуда взяться пиетету к международым институтам, если Россия сосредоточена на "ремонте собственного дома", а международные организации в этом смысле не столько в помощь, сколько в ущерб - если, конечно, понимать под приоритетами России, не столько либерализацию внешней торговли, сколько, как полагает Путин, укрепление вертикали федеральной власти, обеспечение подконтрольности территории Федерации и обуздание терроризма.
Образ "домостроителя" вносит дополнительную ясность в нарастающий интерес Москвы к Китаю, если не как стране и политической системе, то во всяком случае к результатам китайской реформы. Ассоциирует ли себя Путин с "российским Дэном" ? Такое допущение кажется излишне причудливым . Но не потому что образ мудрого и дальновидного китайца не симпатичен Путина, а оттого, что российский президент просто слишкм мало погружен в китайскую и вообще ориентальную проблематику, в культурном смысле вырастая из "западнического" соединения профессиональной симпатии к Германии с питерским (то есть историко-географически - условно ганзейским) происхождением президента и его привязанностью к европейской культуре, которая сквозит из него так же, как из Примакова струилась симпатия ко всему восточному. Вот почему китайский акцент в "образе домостроителя" важен, но не доминантен. Он сужен, функционален и основан на рационализации, а не эмоциональной привлекательности.
Китай символизирует желанный результат, но не указует путь. В образной картине президента Китай - не столько то, чем он является на самом деле, сколько то, чем он должен казаться, чтобы соответствовать желанному образу действий, некоторые черты которого - условная отстраненность от участия в конфликтах, углубленность во внутреннее развитие - обладают ценностью в глазах российской публики и самого Путина как ее избранника и фаворита. Если бы Китая не было, его бы все равно выдумали... в лице любой другой страны, когда-либо отстранявшейся от международной политики на время преодоления внутреннего неустроя.
г) Образ четвертый. Свернутая пружина. Внешнеполитическое поведение президента не просто втиснуть в стандартныеархетипы. Тем более, что сам Путин стремится "путать" следы и мешает прогнозированию его поступков. Любопытна черта его образа связана с непредсказуемостью. Путинская непредсказуемость имеет иную природу чем непредсказуемость Ельцина. Для того кажущаяся стихийность была сознательной игрой - так Наполеон симулировал, по свидетельству историков, припадки гнева, чтобы легче реализовать решения, в оправдание которых у него не было логических аргументов.
Путин как дипломат скрытен, активен и изобретателен. Показателен в этом смысле "иркутский сюжет" - встреча Путина с премьер-министром Японии Мори в марте 2001 г.. Тогда Путин первым из российских лидеров неожиданно и совершенно недвусмысленно и конкретно назвал советско-японскую Совместную декларацию 1956 г. (предусматривающую, как известно, передачу Японии двух островов южной части Курильской гряды после заключения между Москвой и Токио мирного договора) в качестве документа, составляющего правовую базу российско-японских отношений.
Косвенно на этот документ в осторожных формах российские официальные лица ссылались и при Горбачеве, и при Ельцине, а эксперты и ученые многократно обсуждали эту тему в печати и закрытых собраниях. Но ни разу московские лидеры не ссылались на декларацию прямо - слишком уж точно в ней говорилось об обещании Москвы передать острова Японии. Путин "выстрелил первым", что само по себе, может быть и не было бы столь удивительно, не окажись слова президента такими нежданными. Ведь накануне встречи ничто не предвещало "радикализации" президентской точки зрения. Он заявил ее "залпом", уверенно и очень подробно, дав дополнительные комментарии на пресс-конференции.
Можно допустить, что президент просто нерешителен и робок. Но можно предполождить иное: Путин атакует внезапно и бъет наверняка, тщательно прорабатывая маневр, стремясь полностью исключить вероятность неудачи. Он ценит внезапность как таковую, поскольку при тех затруднениях, с которыми сталкивается российская дипломатия внезапность становится важным видом маневра,
способным принести успех без ресурсных затрат, хотя и с риском. Так российские десантиники высадились во время натовских операций 1999 г. против Сербии в аропорту Приштины, с риском произведя политический эффект, заключавшийся в демонстрации участия, а не только присутствия России в балканских делах.
Путин не злоупотребляет внезапностью. Но в отличие от Козырева- Ельцина, он не делает предсказуемость и прозрачность своих мотивов самоцелью. Новый президент сделал выгоды из неумения предшественников готовить крупные инициативы в тайне от политических конкурентов и дельцов новостного бизнеса. Непредсказуемость в руках Путина - заново осваиваемый организационный ресурс. Он, правда, относим к атрибутике слабых стран, которые посредством сокрытия намерений стараются компенсировать нехватку ресурсов для проведения открытой политики и прямого воздействия на международные дела. Возможно, в этом тоже состоит новый реализм президента, его фактическое признание (принятие ?) того неприятного факта, что Россия - в самом деле не Советский Союз. Отказ Москвы от позиции ненанесения ядерного удара первым полностью соответствует дипломатии "свернутой пружины".
Наконец, последнее наблюдение. СМИ стараются создать Путину репутацию жесткого политика. Нет ощущения, что эта репутация отражает что-то большее, чем мыслительные игры писателей, привыкших делать деньги на образе неоимперских амбиций Москвы. Реальная картина внешнеполитического поведения Путина, которая вырисовывается из фактов, а не приписываемых Путину намерений убеждает в другом: дипломатия Путина - не политика твердой руки, а дипломатия "жесткой перчатки", в которой скрывается вполне интеллигентская умеренно либеральная, но окрашенная государственничеством человеческая ладонь.
Путин говорит жестче, чем поступает. Он не стесняется слов о национальных интересах России, критики Вашингтона, резких высказываний о террористах и силовых поползновениях НАТО. Но Путин хладнокровно взирает на капризную задиристость "младобушевцев", невозмутимо допускает заведомо неприязненных ему эмиссаров Совета Европы в Чечню, выводит федеральные силы из зоны чеченского мятежа вопреки возражениям собственных силовиков, без аффектации, но решительней других готовит, судя по всему, компромисс в отношениях с Токио. Это ничем не похоже на дипломатию "вечного нет" по Громыко. Хоть и на тактику "вечного да" по Козыреву это тоже не смахивает.
Преодолевая "невротическое наследие" Ельцина, российская дипломатия приобретает черты "нормальной" дипломатии национального государства в том смысле, как его понимает второе поколение пост-советских лидеров. Из "пяти неврозов" Ельцина новый президент России фактически, пожалуй, не может пока что справиться с одним - "неврозом неравного" - и с точки зрения личностого восприятия внешнего мира эта особенность остается важной для понимания поведения российских лидеров на международной арене. Вместе с тем, личность нового президента во многом уже нейтрализовала остроту этого синдрома, и сегодня "страх неравноправия" сковывает российскую внешнюю политику гораздо меньше, чем раньше.
Роль личностного фактора в российской внешней политике остается очень значительной, а сама политика - авторитарной. Институциональные ограничители всевластия президента фактически не работают. Тем более поразительно, что имея неограниченную возможность проявлять произвол в принятии решений, российские президенты пока обнаруживают разумную сдержанность в международно-политической сфере, канализируя свой авторитаризм (и деспотизм в случае Ельцина) исключительно в сферу внутренней политики.
|
|