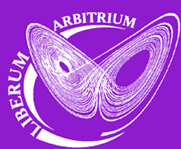
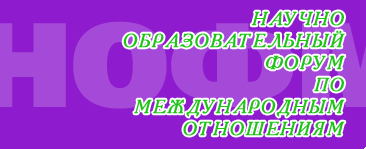
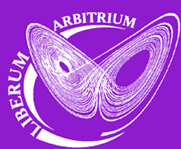 |
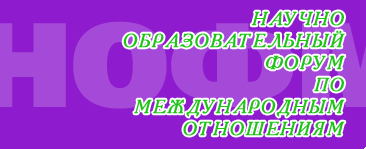 |
|
| |
Раздел I. ТЕОРИЯ Глава 2. КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ <<назад 3. Региональная специфика структур стабильности Формы стабильности и структурированность региональных отношений Тезис о будто бы присущей азиатско-тихоокеанскому району большей нестабильности по сравнению с Европой - общее место в трудах 70-х и 80-х годов1. Эта точка зрения, основанная на «здравом смысле» и внешне очевидной констатации, тиражировалась в десятках публикаций. Даже поколение специалистов, заявивших о себе в годы «перестройки», не пыталось ни опровергнуть, ни поставить этот тезис под сомнение, несмотря на характерный для 1988-1991 гг. импульс дать новую трактовку обстановки в Восточной Азии2. Для уточнения оценок есть основания. Очевидно, что менее стабильной ситуация в Азии могла казаться на фоне «конфронтационной» стабильности в зажатой противостоянием НАТО и Варшавского договора Европе. С распадом последнего, начавшимся вскоре национально-территориальным переделом в Югославии, разрушением СССР и возникновением войн на пост-советской территории ситуация в Восточной Азии перестала укладываться в стандартные представления о критериях стабильности и нестабильности. На сегодняшний день в регионе нет ни одного конфликта, сопоставимого по интенсивности с войнами в Югославии, Таджикистане и Закавказье. С долей осторожности можно предположить, что нет явных оснований ожидать возникновения таковых в близком будущем. Представляется уместным поставить вопрос о возникновении за последние десятилетия в Восточной Азии механизма неформализованных, полуофициальных политико-дипломатических связей и отношений, которые во взаимодействии с местными формализованными структурами обеспечения экономического взаимодействия и безопасности продемонстрировали достаточно высокий уровень способности амортизировать перепады в региональной политической обстановке, предупреждать крупномасштабный конфликт, а также компенсировать возникающие ограниченные нарушения устойчивости региональной подсистемы. Тип этой стабильности, как очевидно, является иным, чем европейской - сообразно тому, что исторический, геополитический и иной фон Восточной Азии сильно отличается от того, на котором складывались последовательно сменявшие друг друга в ХVII-ХХ веках структуры региональных отношений в евро-атлантической части мира. Опыт последней, между тем, во многом определил нормативность мышления теоретиков и практиков международных отношений. Поэтому за эталон стабильности был принят единственный ее вариант - статический, действительно существовавший в Европе с начала 60-х по начало 90-х годов. Оттого непривычно «колеблющийся», не структурированный жесткими обязательствами тип региональной структуры, который удерживает АТР от общего конфликта, внешне казался примером хронической нестабильности - хотя устойчивый, даже устойчиво низкий, уровень этой нестабильности должен был бы бросаться в глаза. Ситуация отсутствия «большого» конфликта и его реальной угрозы сохраняется в АТР с начала 70-х годов - около 20 лет. Для сравнения: в Европе «порядок Бисмарка« продолжался не более 15 лет (хотя, строго говоря, только десять - с момента заключения союза с Австро-Венгрией и Россией в 1879 г. до отставки самого О. фон Бисмарка в 1890 г.); а венский порядок образца Священного Союза - даже того меньше. Включив в оборот понятие динамической стабильности, можно полагать, что в Восточной Азии складывается региональная модель стабильности динамического типа; процесс этот достиг среднего уровня зрелости, хотя, по-видимому, еще далек от завершения. В самом деле - 40-летнее вялотекущее противостояние в Корее; длящееся более трех десятилетий негласное согласие сторон на сохранение статус-кво в Тайваньском проливе; полусимволический почти 50-летний территориальный спор Японии с СССР и Россией в рамках почти безупречного дипломатического этикета; наконец, прагматично выверенные, не всегда дружелюбные, но устойчивые вот уже около 20 лет отношения СССР/России с Китаем; Китая - с США и Японией. Вьетнам, с его, возможно, наиболее острым после успехов 1973-1975 гг. (окончание вьетнамской войны и объединение с Югом) «синдромом победителя», после периода не очень удачных силовых демонстраций около двух десятилетий сохранял временами не свободные от настороженности, но вполне стабильные и далекие от конфликта отношения с государствами АСЕАН, которые в 1995 г. переросли в тесное партнерство. Даже конфликт в Камбодже после прекращения в 1978 г. силами Вьетнама самоистребляющего правления режима Пол Пота приобрел черты «внутренней компенсированности», «войны по правилам», от которой страдало местное население, но которая выплескивался вовне в основном в форме гуманитарной проблемы кампучийских беженцев. Оценки положения дел в Восточной Азии начинают меняться. Некоторые регионоведы начинают признавать уровень стабильности в регионе достаточным. В этом смысле впереди военные теоретики. Сослаться следует прежде всего на Томаса Уилборна, ведущего эксперта по восточно-азиатским делам в американском Институте стратегических исследований. В 1994 г. в авторском разделе аналитического обзора региональной ситуации он определенно заключил: «Восточная Азия и Западная часть Тихого океана остаются районом большой экономической силы и относительной стабильности во всем, за исключением Корейского полуострова»3. В своей более ранней работе он дал видение региональной стабильности - наиболее близкое к адекватному из всех известных: «Региональную стабильность в качестве цели внешней политики США следовало бы определять не как статус-кво и не как предсказуемость отношений в области безопасности с предполагаемым противником (за исключением положения в Корее), но, совершенно точно, как среду (environment), в которой лидеры региона считают положение своих стран в достаточной степени безопасным для того, чтобы они могли продвигаться к осуществлению национальных и международных задач без опасений по поводу внешних угроз и необходимости отвлекать избыточные средства на вооружения и военные нужды»4. Непривычное, оригинальное определение, интересное еще и тем, как удачно автор оттенил логическую оппозицию - статус-кво и предсказуемость военной политики, с одной стороны, и среда, окружающее пространство, с другой. Две черты кажутся характерными для ситуации в регионе. О первой из них написано много. Это - слабая структурированность региональных отношений в области политики и безопасности, выражающаяся в отсутствии мощных и претендующих на всеобъемность многосторонних блоков. Двусторонние союзы в области безопасности превалируют, но и они не типичны. Четко фиксированные обязательства и объединяющие цели также не типичны. Вторая черта - иной, чем в Европе порог, отделяющий «запредельную» конфликтность от «нормативной». Под первой понимается та, что неминуемо повлечет за собой общерегиональную войну, под второй - та, при которой мир в регионе в целом может сохраниться. Политики и общественность предпочитают не касаться этого существующего на практике различия, ибо как факт международной жизни оно аморально. В анализе же - от этой реальности трудно абстрагироваться. Тем более, когда важно констатировать: в отличие от Европы 1945-1991 гг., где любой конфликт мог считаться потенциально «запредельным», в Восточной Азии наличие нескольких «нормативных» конфликтов оказалось совместимым с сохранением мира на общерегиональном уровне. Бoльшая конфликтность мировой периферии по сравнению с центром отчасти - побочный результат политики сверхдержав. Принятая администрацией Дж.Кеннеди в начале 60-х концепция «гибкого реагирования» (flexible response) определила «правила игры» США и СССР таким образом, что потенциал конфликтности был вытеснен с глобального уровня на региональный, из сферы советско-американских отношений - на периферию. При конфронтационной стабильности сохранить общий мир по-иному было и нельзя: движение системы не могло прекратиться по воле политиков, следовательно, противоречия развития должны были возникать, а их потенциал - неизбежно тяготеть к саморазрешению. И перенапряжения сбрасывались через региональные конфликты. Стабильность, по сути дела, распространялась избирательно - только на глобальный уровень и на Европу. В других частях мира конфликты не были исключены. Или даже молча подразумевались. По-видимому, к цинизму великодержавного согласия, лежащего в основе такой стабильности, следует отнести замечание Р.Kyпера, в числе слабостей системы времен «холодной войны» назвавшего отсутствие в ней морали, даже по сравнению с ХIХ в., когда все же существовали рационалистические основания равновесия и правительства большинства стран их признавали5. Но дело не только в морали. Мировая периферия была поставлена сверхдержавами в положение, при котором странам условно второстепенных по сравнению с Европой регионов в обеспечении стабильности приходилось больше ориентироваться на собственные усилия, чем на вовлеченность обоих глобальных полюсов силы, каждый из которых (США - после окончания вьетнамской войны в 1973 г., а СССР - после начала афганской в 1979 г.) настороженно воспринимал перспективы расширения сферы своей прямой военной ответственности за рубежом. Оказавшись в какой-то мере предоставленным самому себе, периферийный мир должен был дать свой иммунный ответ на ослабление сверхдержавной активности. Должны были сработать какие-то защитные механизмы региональной подсистемы, которая в противном случае могла погибнуть. В той же мере, как очевидно, что этого не произошло, уместна и постановка вопроса о формировании в Восточной Азии собственной модели стабильности на основе сочетания малых конфликтов с общей для местных стран заинтересованностью в региональном мире, несмотря на них. Для возникновения в Восточной Азии особой модели стабильности имелись основания - структурные, геополитические и политико-психологические. Отношения в Восточной Азии тяготели, если следовать терминологии современного русского исследователя Валерия Алтухова, к «кольцевой» структуре развития6, тогда как в Европе - к лучевой. Европейские интересы и страхи «пронизывали», как лучи, всю толщу европейских дел, придавая большинству вопросов безопасности отдельных стран общеевропейское значение. В этом сказывались геополитические условия Европы (малое пространство, высокая коммуникационная проницаемость). Не удивительно, что в Европе оказалась сильной традиция централизации и стремление к ней в форме почти непрерывной борьбы за гегемонию. В Азии в силу многих причин «сквозные» проблемы безопасности отсутствовали, по крайней мере, до перехода в активную фазу японской экспансии в 30-х годах ХХ в. В АТР своего регионального «Центра», за исключением относительно краткого периода доминирования Японии в 30-х - начале 40-х годов, не сложилось. Регион не знал традиции чередования периодов гегемонии то одной, то другой наиболее мощной страны, как это было типично для Европы. Военно-политическая централизация, сопоставимая с той, что возникала в Европе на протяжении большей части ХIХ и ХХ веков, в Тихоокеанской Азии не состоялась. В этой части мира превалировали горизонтальные отношения - здесь существовали замкнутые и относительно взаимно изолированные «кружки» или очаги интересов безопасности, из которых ни один не был общерегиональным - слишком пространным был регион, и слишком специфичными были военные угрозы в его отдельных частях. В психологическом смысле, все европейские страны были настолько сильно вовлечены в общеевропейские же проблемы, что, в известном смысле, в Европе вообще не было «периферии» («низа») - по контрасту с «центром» («верхом»); так сильно был структурирован этот «низ», и так глубоко он был «вертикально» интегрирован в общеевропейские дела. В Азии о вертикальной структурированности подсистемы можно было говорить лишь постольку, поскольку колониальные державы пытались манипулировать колониями. Национальные интересы местных элит были сугубо «горизонтальными», местническими, региональными. И в той мере, как национализм отвергал политику колониальных держав, идея вертикальной интегрированности, самовключения в дела европейских государств оставалась для местных элит чуждой. Понятия централизации и иерархичности, привычные и считавшиеся полезными в Европе, в Азии казались чужеродными, непонятными и - более того - опасными. Между тем, идея многосторонних блоков для обеспечения безопасности как раз эти идеи централизации и иерархии и воплощала. Отчасти поэтому, органически совмещаясь с европейской психологией, она не сопрягалась с восточно-азиатскими реалиями. Когда в Европе после второй мировой войны появились новые претенденты на верховенство/гегемонию - СССР на востоке и США на западе - «центро-лучевая» традиция межгосударственных отношений не противодействовала и даже способствовала быстрому оформлению региональных центров-блоков. В Восточной Азии на фоне отсутствия явных для большинства местных стран очертаний потенциального центра-гегемона попытки перенести европейский опыт многосторонних союзов наталкивались на непонимание как не соответствующие туземной традиции «круговых» (горизонтальных) отношений. Разумеется, после 1945 г. в Восточной Азии за место регионального центра-гегемона боролись, по крайней мере, две державы - Советский Союз и Соединенные Штаты. Однако подобный центр в АТР так и не возник - не столько из-за ошибок «верха» (лидеров), сколько в силу объективного отсутствия «низа» - более или менее многочисленной группы слабых стран, которые были бы способны и согласны стать опорой общерегиональной иерархической структуры, построенной по типу европейских7. Стоит указать на многозначительное противоречие. Европейская политико-интеллектуальная традиция располагает огромным преимуществом в теоретических разработках проблем стабильности. Но ее построения скованы открытиями эпохи конфронтационной стабильности. На Западе только начинается поворот к выявлению подлинной роли динамики в международных отношениях. Исторически более передовая, гибкая и в этом смысле обладающая более обширными возможностями форма динамической стабильности стала складываться в условиях отставания восточно-азиатской подсистемы отношений от европейской по уровню ее структурной организации. Напрашивается допущение, что сам по себе высокий уровень организации системы не является ключевым условием стабильности и в этом смысле не обязательно должен рассматриваться как приоритет рациональной политики государств. Структурно неоформленные связи в принципе способны обеспечивать (и, как об этом еще будет говориться, действительно обеспечивают) подчас не меньший амортизирующий эффект, чем тот, который дают отношения, формализованные в блоках типа НАТО, Манильского пакта (СЕАТО) и т.п. Более того, они могут быть более гибкими и адекватными региональной обстановке в условиях, как, например, это сложилось в Восточной Азии, когда отсутствует ясно выраженное и общепризнаваемое представление о потенциальной угрозе. Данное наблюдение подвигает к постановке вопроса о том, что сама структурная неоформленность в действительности может быть просто иным способом самоорганизации - самоорганизации, в которой ключевую роль играют не страны-лидеры, а малые и средние государства, не способные к роли самостоятельных несущих элементов региональной структуры и поэтому обычно воспринимаемые в качестве регионального «фона» или элементов пространства. Субъектные («лидерские») и объектный («пространственный») типы структур Анализ литературы показывает, что большинство теоретиков ограничивается рассмотрением субъектной стороны обеспечения стабильности: усилия авторов сконцентрированы на исследовании наиболее мощных субъектов мировой политики. Подразумевается, что эти импульсы и определяют содержание межполюсных отношений. Такой подход представляется оправданным - в той мере, как ясна невозможность прийти к серьезным обобщениям, не отрешившись от малозначимых деталей - например, от учета роли каждого из множества малых и слабых государств. Но сказанное не снимает вопроса о недостаточности субъектного подхода на нынешнем этапе развития мирополитической системы. Этот подход может быть непродуктивным для понимания ситуаций в отдельных регионах, которые (подобно Западной Европе и Восточной Азии) далее других продвинулись по пути пространственной самоорганизации или организации регионального пространства. Разумеется, противопоставление лидеров пространству во многом условно. Потому что под региональным пространством понимается совокупность всех - основных и второстепенных - участников межгосударственных отношений в рамках того или иного фрагмента мировой системы в их взаимодействии. В системной роли и лидеров, и малых стран имеются как чисто «пространственный» элемент (функция которого - олицетворять политически некую географическую протяженность; быть частью ресурсно-сырьевого ландшафта, культурно-цивилизационным компонентом или фактором регионального общественно-политического мнения), так и активная составляющая. Разница между лидером и аутсайдером определяется соотношением «фонового» и «творческого» начала во внешней политике каждого из них. И в той мере, как у одних преобладает второе - их условно можно именовать лидерами. Множество же разрозненных аутсайдеров по той же логике образует окружение, которое предпочтительнее ( с уже поясненной долей условности) называть пространством, «фоном», или «средой». Наше определение «лидерства» было уже приведено во введении. Для целей конкретного анализа в последующих главах стоит ввести и понятие «типичное лидерское поведение», основными характеристиками которого, очевидно, являются: тяготение к принятию односторонних решений при минимальном их согласовании с партнерами и союзниками [1]; инициативный, «опережающий», преимущественно наступательный курс в области военно-политической стратегии и дипломатии [2]; стремление расширить участие и повысить свое влияние в мирополитических процессах, убедить или заставить международное сообщество «считаться с собой» [3]; склонность к мессианству (политическому, культурному, экономическому и т.д.) [4]. Конечно, лидеры и пространство неодинаково могут влиять на ситуацию. Всегда существовал разрыв в функциях, которые выполняли в межгосударственных системах лидеры и все остальные государства. Первые фактически направляли или пытались направлять развитие систем, а вторые оставались более или менее безликой массой, как правило, заполнявшей географические и/или политические ниши между основными игроками. В той же мере, как практически все описанные до сих пор системы отношений строились на бесспорном преобладания разного, но всегда жестко ограниченного круга наиболее сильных государств, они и могут именоваться лидерскими. Лидерскими были все системы международных отношений, которые возникали и разрушались со времени возникновения вестфальского порядка в 1648 г.8 до разрушения ялтинско-потсдамского в 1991 г.9 Не удивительно, что и аналитики истории и теории международных отношений склонны абсолютизировать субъектный подход. Тем не менее, приходится констатировать, что субъектный подход к изучению стабильности выводит из круга научных интересов проблему пространства - среды, в которой реализуются исходные межполюсные импульсы, которую они «пронизывают» - пронизывают, заметим, претерпевая изменения, искажаясь, теряя часть исходного заряда или, напротив, приобретая дополнительную энергию. Эволюция мировой системы подвигает к тому, чтобы выйти за рамки оперирования категориями только лидерских систем. Обращение к регионоведению в этом смысле может быть продуктивным. Вряд ли можно считать оправданным сохраняющееся в течение десятилетий положение, при котором результаты исследований общего профиля механистически проецируются на регионы, тогда как приложение данных анализа региональных ситуаций к общим процессам остается единичным явлением. Поворот к пониманию недостаточности прежних аналитических схем только оттеняет необходимость обращения «лицом к регионам», опыт которых способен послужить основой обновления общей теории. Как отмечается в одной из западных работ, «понятие 'регионализм' целиком захватило американских аналитиков стратегии, когда они впервые осознали, что холодная война закончилась». Стивен Метц резковато, но откровенно назвал этот сдвиг отходом от «грубого и косного» глобализма10. Анализ региональных ситуаций, в частности, в Восточной Азии, заставляет размышлять о необходимости выделения наряду с системами лидерскими систем пространственных - то есть таких, в рамках которых, как уже отмечалось, отдельные полюсы-лидеры почему-либо оказываются не в состоянии оказывать определяющее влияние на положение дел, а степень организованности традиционных «фоновых» стран, составляющих региональное пространство, приблизилась к тому уровню, когда его сопротивление может нейтрализовать импульсы со стороны, как минимум, одного, наиболее мощного полюса или всех полюсов в совокупности11. Стоит остановиться подробнее на том, что понимается под различиями структур обоих типов. Можно сказать, что полюсные системы преимущественно воплощают тип организации лидерства, тогда как пространственные, опять-таки преимущественно, - тип организации среды. В полюсных - основную стабилизирующую нагрузку выносят жесткие иерархические связи по вертикали; предельно строгая процедура принятия решений в чрезвычайных ситуациях в НАТО и Варшавском блоке - тому пример12. В пространственной - они могут вообще отсутствовать или, во всяком случае, уступают развитости отношений по горизонтали. В Восточной Азии говорить об иерархизации политических отношений вообще нельзя. Неуместна такая постановка вопроса в отношении Манильского пакта13. Об автоматическом подчинении союзнической дисциплине нельзя говорить даже применительно к союзам США с Южной Кореей14 и Японией15. В той мере, как для лидерских структур типично подчинение сильному, в них укоренены традиции поисков союзников. За сателлитов конкурируют, поскольку мобилизационный контроль над сателлитом (то есть возможность мобилизовать в своих интересах принадлежащие ему ресурсы, в том числе геополитические) считается важнейшим условием прочности позиций лидера-полюса. Разнятся и преобладающие в лидерских и пространственной структурах типы взаимоотношений. В первых преобладает линейный: мощные полюса как бы заранее запрограммированы на излучение прямых адресных сигналов - в первую очередь, другим полюсам-соперниками. Отсыл косвенного сигнала, конечно, возможен и практикуется. Но он не становится для полюса преобладающей формой общения, так как систематическое воздержание от прямых линейных связей может быть воспринято как признак слабости полюса и может привести к нежелательным результатам. Чаще наоборот, полюсы «блефуют», злоупотребляя линейностью в стремлении подчеркнуть свою высокую самооценку (СССР и США в отношениях с друг другом - систематически, особенно с 1946 по 1962 г. и т.п.). В пространственной структуре преобладающим выступает не линейный, а опоясывающий тип связей. Не ощущая твердой (договорно-правовой, структурно зафиксированной) опоры, государства предпочитают или вынуждены больше полагаться на косвенное взаимодействие с более сильными партнерами, на учет неопределенного числа потенциальных противодействующих сил и возможных партнеров - при этом тоже колеблющихся, настороженных и стремящихся избежать четко определенных обязательств. Так вплоть до начала 80-х годов пыталась продвинуться к решению Курильской проблемы Япония. Похожим путем страны АСЕАН в 70-80-х годах стремились решить проблему Кампучии, а в начале 90-х годов стали искать путь к опосредованному воздействию на пугающий их Китай. Да и сегодня подготовка диалога по безопасности в Восточной Азии ведется не напрямую, между наиболее сильными державами, а «окраинно», косвенно - через обсуждение проблем безопасности прежде всего с малыми странами и через переговоры малых стран между собой. Разнятся и типы формулирования внешнеполитических задач. Для лидерских, как уже отмечалось, важен контроль, прежде всего прямой, мобилизационный. Так, Россия не изжила стремления сохранить в его пределах такие отделенные и, по-видимому, все равно бесперспективные территории, как Таджикистан. Германия, из опасений упустить шанс легкого проникновения в республики севера бывшей СФРЮ, форсировала ее разрушение. Греция, Албания, Болгария, Сербия и собственно Македония, претендуя с равно сомнительными основаниями на целый ряд спорных территорий, приближаются к предельной черте, за которой может оказаться неизбежным новый конфликт. В пространственной структуре преобладает борьба за влияние. Через влияние на США и повышение своей роли в японо-американском союзе за 30 лет Япония продвинулась к статусу «почти великой» державы, при этом не посягая на прямой контроль над какими-либо территориями, кроме крошечных четырех островов у побережья Хоккайдо, обладание которыми для Токио носит символический характер. Вдоль этой же оси сориентированы усилия стран АСЕАН, которые добивались и добились расширения своих возможностей регулировать политико-военную обстановку в своем регионе не собственными усилиями, а через воздействие на Вашингтон, Токио, Канберру, а в последнее время - и Москву. Лидерские системы составляют по-прежнему костяк мировой структуры и опору международной стабильности. Было бы неразумно принижать их значение. Но они перестают быть универсальной моделью отношений для всех регионов мира. В каком-то смысле, они начинают устаревать морально, обнаруживая свои слабости и приближаясь к пределам заложенных в них колоссальных (как мы видим на примере России), но не безграничных запасов прочности. Возникновение «пространственной» структуры в Восточной Азии вряд ли можно объяснить только типичным для западной и советско-российской литературы указанием на ослабление традиционных мировых лидеров16. Не кажется исчерпывающим и более развернутое объяснение взаимосвязей между ослаблением одних лидеров и возвышением других, предложенное Полом Кеннеди в его эпическом труде на тему великодержавия17. Материалы самого П.Кеннеди иллюстрируют не столько процесс упадка могущества мировых полюсов, сколько его относительный характер18. Речь ведется фактически о подтягивании более слабых лидеров к более сильным. Уже упоминавшийся Ч.Доран, специально занимавшийся сопоставительным аспектом понятия «могущество», на большом фактическом материале и математически обработанной статистике привел в своем исследовании достаточно убедительных аргументов в пользу относительного характера ослабления позиций лидеров при сохранении ими преобладающих абсолютных позиций19. «Упадок США - это относительный феномен, более связанный с тем, что другие государства оказались способными достигнуть, особенно в Азии, чем с экстенсивным (и постоянным) разрушением экономической или военной мощи США», - пишет он20. По-видимому, в ключе такой интерпретации и следует рассматривать интересующий нас феномен возникновения наряду с лидерскими структурами отношений пространственных: в его основе не столько ослабление лидеров, сколько консолидация пространства и, как следствие, неспособность лидеров сохранять традиционный тип мобилизационного контроля над ним. Интерес к выявлению роли пространства, строго говоря, подразумевается и в многочисленных в литературе и публицистике построениях на тему демократизации международных отношений. В задачи этой работы не входит их разбор. Важнее предложить структурное обоснование необходимости выйти за рамки анализа лидерства. Имеется в виду, что при всей основополагающей значимости полюсов и исходящих от них импульсов, ситуация в том или ином регионе зависит не только от самих этих импульсов (их силы и направленности), но и от того, как эти импульсы преломляются региональной средой, через которую они должны пройти, чтобы достигнуть адресата. Местная международно-политическая среда выступает в качестве передаточного звена или канала информации. Эта среда может быть разряженной, проницаемой, или, наоборот, плотной, концентрированной. В первом случае межполюсные импульсы пронизывают среду, почти не меняясь или меняясь незначительно, и классический субъектный подход оказывается более корректным. Во втором - пространство может играть существенную корректирующую роль, само по себе приобретая черты субъектности. В ряде случаев «помехами в канале» межполюсного обмена можно пренебречь. В других - игнорирование роли пространства способно привести к ошибочным интерпретациям. Основная сложность здесь в том, чтобы уловить момент, когда региональная среда из разряженной начинает превращаться в плотную, чтобы со временем претендовать на роль большую, чем та, которую выполняет обычная проницаемая мембрана. Иными словами, задача в определении момента возможного (но не обязательного) перерастания отдельных элементов пространства или пространства в целом из объектного состояния в субъектное. Так, Китайская Народная Республика, и в США, и в СССР воспринимавшаяся в 40-х и 50-х годах как элемент проницаемой (для СССР) политико-стратегической среды21, с начала 60-х годов резко поменяла свою структурную роль. Подобным же образом страны, объединившиеся впоследствии в АСЕАН, в первые послевоенные десятилетия не могли оказывать даже слабое «преобразующее» влияние на междержавные импульсы, а к началу 90-х сделали заявку на роль регионального пространства такой плотности, что его сопротивление может блокировать общерегиональные стратегические начинания - что на практике и происходило неоднократно на протяжении 70-х и 80-х годов, когда государства АСЕАН заблокировали создание военно-политического «тихоокеанского сообщества». Обозначив различия между лидерскими и пространственными системами, важно оговорить их соотношение с ключевыми для этой работы понятиями динамической и статической стабильности. Заметим, что такие характеристики, как «лидерская» или «пространственная», применительно к системам межгосударственных отношений указывают на тип генерирования движущих импульсов, моментов движения системы. В отличие от них, определения «статический» и «динамический» в приложении к типу обеспечения стабильности выражают не столько исходный момент, сколько способ самоадаптации системы к противоречиям, возникающим в процессе ее развития. Иначе говоря, «лидерство» и «пространственность» характеризуют источник направляющих или корректирующих толчков, а «динамичность» и «статичность» - процесс их самопреобразования в конкретные отношения. На первый взгляд, опыт дает основания думать, что лидерские системы отношений тяготеют к статическим формам стабильности. Вероятно, это в реальности так и было - однако только на уровне многосторонних отношений. На двустороннем - сегодня мы видим, как минимум, два случая (отношения США с Японией и России с Украиной), в которых сочетается лидерский тип отношений с их пребыванием в динамической стабильности. Следовательно, корректнее было бы постулировать, что лидерский тип самоорганизации систем может сочетаться как со статическими, так и с динамическими видами стабильности. Меньше ясности в вопросе о пространственных структурах - возможно, в силу незавершенности процесса их складывания и связанной с этим ограниченностью эмпирического материала. По-видимому, можно считать фактом, что восточно-азиатская подсистема, тяготеющая к самоорганизации по пространственному типу, реально развивается по модели динамической стабильности. Но значит ли это, что пространственный тип системы не совместим со стабильностью статической? Для однозначного ответа на этот вопрос оснований пока нет. Можно только предположить, что динамическая стабильность способна более органично сочетаться с пространственными системами. Типологически они кажутся более сходными между собой, поскольку та и другие акцентируют роль системных регуляторов и принижают роль волевых. Имеется в виду, что состояние динамической стабильности возникает как результат не просто взаимодействия двух политических воль - скажем, страха одного лидера перед более сильным соперником, - но их общего признания отсутствия рациональной возможности пожертвовать объединяющими обе стороны интересами. Аналогично, в пространственном типе системы движущие импульсы исходят не столько непосредственно от отдельных центров, сколько от их формальных и неформальных взаимодействий. Роль «индивидуальных воль», как видно, в этом случае, условно говоря, принижается. Сказанное, однако, пока остается теоретическим допущением. В реальности же имеется возможность наблюдать пока одну «живую» и «работающую» систему - восточно-азиатскую, которая тяготеет к самотрансформации в пространственную, развиваясь при этом по принципу динамической стабильности. Помимо пространственной структуры, которая вырисовывается в Восточной Азии, таковой можно было бы считать, строго говоря, подсистему трансатлантических американо-западноевропейских отношений, не будь ее выделение из общего комплекса внутризападных отношений слишком искусственным. Возможно, в отдаленной перспективе, предпосылки для пространственной организации региональной структуры возникнут на Арабском Востоке. В чем теоретический и практический смысл предлагаемых классификаций? В том, что вырисовывающаяся в Восточной Азии структура отношений не укладывается в понятия многополярности или биполярности, поскольку для региональной стабильности и безопасности сегодня ключевыми являются не столько отношения между лидерами-полюсами (США, Россией, Китаем и Японией), сколько отношения между одной крупной державой - КНР - и рядом более мелких государств, ни одно из которых не в состоянии претендовать на роль полюса в одиночку и которые все вместе тоже не могут рассматриваться даже как рудиментарный региональный полюс. Та структура, которая складывается в Восточной Азии, построена вокруг контролируемого противостояния ревизионистского лидера, Китая, и неперсонифицированного регионального пространства в целом, основное структурообразующее звено которого - малые и средние страны. Постановка проблемы в плоскость отношений «лидер - пространство» позволяет задаться далеко не академическим вопросом о мере структурной заданности стабильности в Восточной Азии. Иными словами, насколько отсутствие или наличие споров и конфликтов в регионе и, что особенно важно, характер их протекания были обусловлены более или менее случайным набором обстоятельств, а насколько это зависело от особенностей региональной структуры. В лидерских структурах основным фактором, придающим отношениям устойчивость, являются, как правило, формализованные межгосударственные обязательства в форме союзов, коалиций и блоков. Отношения между ними и в их рамках представляют собой строго заданные каналы диалога по вопросам стабильности. Как показывает опыт, такой механизм стабилизации эффективен в условиях поляризации сил в мире или регионе, когда роль «фоновых» государств остается очень малой (ялтинско-потсдамский порядок). В случае становления пространственной структуры, с типичной для нее ослабленной формализованностью связей, роль нормативных каналов диалога существенно ниже, а сам диалог менее эффективен. Центр тяжести стабилизирующих усилий смещается в область «точечных» урегулирований конкретных, субрегионально- или даже локально-специфических проблем. В результате складывается не новая региональная структура сдерживания возникающих или устранения старых нестабильностей (как диалог НАТО - ОВД в Европе), а, скорее, негласно признаваемые и более или менее строго соблюдаемые правила международного поведения в интересах «кодификации» конфликтов. Последние при этом встраиваются в такие рамки, при которых, с одной стороны, несогласные стороны продолжают сохранять возможность взаимного выяснения отношений на основе «традиционного», то есть доступного их уровню политико-культурной организации, инструментария внешнеполитической борьбы; с другой - конфликт спорящих не имеет возможности излиться в окружающее (и в этом случае «уплотняющееся» против него) международно-политическое пространство в такой мере, чтобы представлять угрозу для существования региональной структуры в целом. В рамках политической рефлексии, воспитанной на ялтинско-потсдамском стандарте, такой тип стабилизации может казаться недостаточно гуманным и не радикальным. Но, представляется, что он воплощает иную (культурно-цивилизационно и геополитически мотивированную) тактику продвижения к предупреждению «большой войны», не через попытки устранить неустранимое - множественные территориальные, этнические и иные конфликты и противоречия в условиях «запаздывающего» социально-культурного развития азиатских регионов, - а через постепенное наращивание потенциала позитивных, прагматических, взаимноперекрещивающихся интересов, в том числе и интересов конфликтующих сторон в отношении окружающей среды и друг друга. В долгосрочной перспективе (и, возможно, не только в Азии) такой тип стабилизации может быть не менее результативным, чем он оказался в АТР. Наконец, постановка проблемы «уплотняющегося» пространства как равноценного элемента структуры стабильности позволяет внести больше ясности в вопрос о рациональных параметрах самоидентификации восточно-азиатских государств. Опыт показывает, что «исторические комплексы неполноценности» молодых государств давно уже стали большой проблемой, затрудняющей выработку решений по упрочению стабильности. В Восточной Азии претензии на «восстановление утраченного» присущи малым государствам (от Кореи и Вьетнама до Таиланда и Индонезии) ничуть не меньше, чем Китаю. Между тем, за исключением КНР, Японии и России, ни одно из государств Тихоокеанской Азии не способно выполнять роль чего-то иного, кроме элемента «пространства». Для региональной подсистемы не безразлично, к какой функции будут тяготеть эти страны и как они будут формулировать свои задачи - исходя из ориентации на амбициозную и сомнительную цель превращения в мини-центр силы или выбирая менее броскую, но не менее эффективную роль передающего звена, активного и влиятельного настолько, чтобы корректировать с учетом своих интересов те мощные межполюсные импульсы, подобных которым само оно производить не в состоянии. Тем важнее - теоретически и практически - осмыслить предпосылки, историю и особенности становления восточно-азиатской структуры стабильности как структуры преимущественно пространственной, а значит, способной обладать еще не вполне понятыми функциональными возможностями; проанализировать международные отношения в Восточной Азии не как сумму внешних политик больших и малых государств, а как пространственную структуру, в рамках которой четко различимо стремление к некоей не поддающейся пока точному определению коллективной субъектности. Оценить перспективы и возможности для использования в интересах региональной стабильности преимуществ, которые может нести этот активизирующийся компонент, равно как и выявить новые, которые будут сопряжены с уплотнением восточно-азиатского международно-политического пространства - этим задачам посвящены последующие разделы работы. 1 Типичны в этом смысле заслуживающие в целом безусловно положительной оценки работы видного российского японоведа Д.В.Петрова или его американского коллеги Д.Загории (Петров Д.В. Япония в мировой политике. М.: Международные отношения, 1973; Zagoria D./ed./ Soviet Policy in East Asia. New Haven; London: Yale University Press, 1992) и др.
|
| На
эмблеме Форума изображен “аттрактор Лоренца” -- фигура, воплощающая вариантность
движения потоков частиц в неравновесных системах. © Научно-образовательный форум по международным отношениям, 2002 Москва, Газетный пер, д. 9, стр. 7, офис 16 Адрес для корреспонденции: 101000 Москва, Почтамт, а/я 81 Тел.: (095) 790-73-94, тел./факс: (095) 202-39-34 E-mail: info@obraforum.ru © Дизайн и создание сайта: Бюро Интернет Маркетинга, 2002 |
||